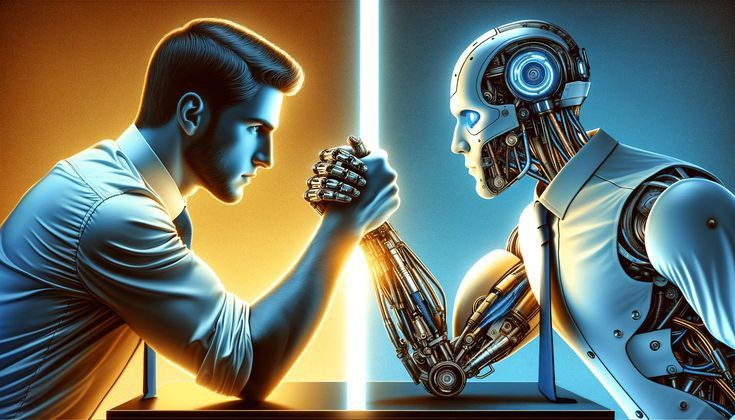Разрыв между доходами и расходами отечественного бюджета растет. По самым оптимистичным расчетам правительства, в этом году дефицит странового бюджета составит более 4 трлн тенге. Чем чреват этот дисбаланс и что делать? Выясняем сегодня.
Когда госфинансы поют романсы
Расходы местного и республиканского бюджета в 2024 году выросли на 13,4%, составив в итоге 34,7 трлн тенге. Траты превысили доходную часть бюджета почти на четверть или 7,6 трлн тенге. Эксперты уже предупреждали о кризисе госфинансов, который ждет нас в этом году. Но, судя по картине первых месяцев наступавшего года, правительство не осознает проблемы, тем самым усугубляя ее. При этом Левый берег предлагает стране затянуть пояса и жить по средствам. Все это звучит на фоне скорого повышения налогов и практически необсуждаемых сокращений раздутых расходов бюджета.
Хотя президент неоднократно требовал от правительства сосредоточиться на рациональном использовании бюджетных средств, повышении эффективности деятельности госструктур и не допускать необоснованные траты.
Как перевести бюджет выживания в режим развития? И что делать с госфинансами, поющими последние годы романсы? Разбираемся с экспертами.
Директор по государственному управлению и политике аналитического центра «Desht» АлибекКонкаков отмечает: рост бюджетных расходов сопутствует развитию экономики.
«Сегодня затраты госбюджета Казахстана составляют порядка 22% от ВВП, в то время как в целом по странам с подушевыми доходами выше среднего уровня этот показатель составляетболее 30%, а в странах с высокими доходами – более 40% от ВВП.
При этом динамика госрасходов в последние 10 лет была умеренной. Соотношение затрат из госбюджета к ВВП увеличилось с 2014 по 2024 гг. примерно на 3 процентных пункта до 22,6% (если использовать прогноз правительства по объему ВВП в 2024 году), - отмечает экономист.
По отдельным статьям изменения были также умеренными: наибольший прирост наблюдался в расходах на образование (с 3,4% до 5%), социальную помощь и обеспечение (с 3,9% до 4,5%) и в обслуживании долга (с 0,6% до 1,7%).
«Дефицит бюджета за этот же период не изменился, оставаясь на уровне 2,7%. Конечно, этот уровень поддерживается значительными трансфертами из Нацфонда, но ненефтяной дефицит также не растет и даже показывает некоторую отрицательную динамику, снизившись с 9,5% до 8%», - продолжает аналитик.
Вместе с тем оптимизация бюджетных расходов, безусловно, необходима, считает он.
«На сегодняшний день в структуре расходов наблюдается абсолютное преобладание текущих затрат над капитальными (79% против 17%). При этом за последние 10 лет данная ситуация только укрепилась.
Текущие затраты значительно расширились (их доля в структуре выросла на 10 п.п.), в частности за счет роста в трансфертах физическим лицам (с 17% до 20%), заработных платах (с 12% до 14%) и выплатах вознаграждений по внутренним займам (с 3% до 6%). В то же время капитальные затраты за этот же период несколько сократились (с 19% до 17%)», - говорит Алибек Конкаков.
Также он фиксирует рост субвенций регионам – их доля в структуре расходов увеличилась с 15,2% до 22,8%.
«Сегодня 17 регионов страны являются дотационными, из них в 8 на трансферты из республиканского бюджета приходится более половины доходов местных бюджетов: Туркестанская (67,6%), Кызылординская (62,9%), Жамбылская (60,8%), Костанайская (50,7%), Акмолинская области (50,2%), СКО (63,4%), области Жетісу (65,5%) и Абай (53,8%)», - говорит экономист.

Алибек Конкаков - директор по государственному управлению и политике аналитического центра «Desht»
Все эти тенденции высвечивают необходимость улучшения институциональной среды», - подчеркивает собеседник TAJ.report.
Экономика с динамичным частным сектором не только создает доходы для бюджета, но и снижает текущие затраты за счет создания большего количества высокодоходных рабочих мест, акцентирует он.
«Конечно, проблемы с фискальным балансом характерны и для таких экономик, но разница заключается в том, что инвестиционная привлекательность поддерживает их на плаву. Поэтому правительствам этих стран не приходит в голову резко повышать основные налоги», - подчеркивает эксперт «Desht».
Три проблемы
Руководитель Kursiv Research Сергей Домнин выделяет три основные проблемы казахстанских государственных финансов.
«Первая – систематическая зависимость от нефтяных поступлений, которые формируют от 30 до 40% (в некоторые периоды – до 50%) доходной части бюджета. Данная зависимость вызвана исторически несбалансированным бюджетом, где долгое время (до 2023 года) не действовали эффективные бюджетные правила по ограничению роста расходной части.
Вторая проблема – ухудшение качества планирования доходной части, в особенности налоговых поступлений по двум ключевым группам налогов – корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость. Фактические поступления хронически высоко откланялись от прогнозных и по ходу года требовалось несколько корректировок, чтобы приблизить план и факт», - говорит эксперт.
Третья проблема – высокие и нарастающие темпы роста расходной части государственного бюджета, которые не балансируются ростом налоговых поступлений.
«Если в период 2010-2019, когда темпы роста экономики находились на уровне 4,4%, а потребительская инфляция – 7%, расходы бюджета росли в среднем на 14% в год.
В 2021-2024 на фоне средних темпов роста ВВП в 4,5% и инфляции в 12% расходы бюджета ускорились до 16% в год.
Расходы госбюджета растут и структурно: если в 2010-2019 их отношение к ВВП составляло в среднем 19,9%, то в 2021-2024 - 21,7%.
Казалось бы, некритичный рост, но он не в полной мере компенсируется ростом налоговых поступлений: в соответствующие два периода они составляли 13,0 и 14,4% ВВП соответственно», - отмечает Сергей Домнин.
То есть на структурный рост расходов на примерно 1,8 п.п. мы ответили ростом ненефтяных доходов на 1,4 п.п. На длинном треке эти несколько процентных пунктов на фоне других застарелых бюджетных дисбалансов привели к серьезной разбалансировке госбюджета, констатирует он.
Что делать для того, чтобы у нас был бюджет развития, а не выживания? Для начала аналитик предлагает определиться с формулировками.
"Могу ошибаться, но в Бюджетном кодексе РК такой формулировки – «бюджет развития» – нет. Там говорится, например, о трансфертах на развитие, есть бюджеты в соответствии с планами развития тех или иных госорганов или регионов, но о «бюджете развития» как структурной части государственного или республиканского бюджета речи не идет. Это категория из отчетов Высшей аудиторской палаты, под которой там, судя по всему, понимается часть расходов государственного и республиканского бюджетов, которые проходят в статистике госфинансов как капитальные затраты, то есть расходы на создание материальных активов, основных средств", - уточняет собеседник канала.
Это строительство зданий и сооружений – дорог, мостов, плотин, инженерных сетей и так далее. Данные затраты способствуют созданию рабочих мест в период строительства, формируют спрос на инвестиционные товары и при правильном распределении обеспечивают долгосрочный экономический рост.
«По итогам 2024 доля капзатрат в структуре госбюджета РК составила 17%, в 2019 она была на уровне 13%, в 2015 – 15%, в 2010 – 23%.
Но на центральном уровне недовольны не только и не столько тем, что доля капрасходов в структуре расходов государства снижается. Большая часть этих средств распределяется на местном уровне, а в структуре республиканского бюджета этих расходов уже не 23%, а 10%. При этом заметная часть таких расходов в последнее время оплачивается за счет трансфертов из Нацфонда», - фокусирует внимание аналитик.

Сергей Домнин - руководитель Kursiv Research
Спикеры правительства говорят о том, что государству необходимо больше инвестировать в основные средства, напоминает он.
«Теоретически можно перераспределить средства между имеющимися группами расходов – от текущих к капитальным. Однако текущие расходы сократить сложно и технически, и политически: в их структуре две трети – это пенсии, пособия, оплата труда бюджетников, четверть – госзакупки, еще примерно 10% – обслуживание долга.
Значит, необходимо увеличивать доходы. Может быть увеличить размер трансфертов из НФ? Но президент Токаев ставил задачу довести объем активов НФ до $100 млрд по итогам 2029 года. Только за счет роста инвестдохода эту задачу не выполнишь.
Как решить задачу с такими условиями? Ответ очевиден: структурно увеличить долю налоговых поступлений. Как сделать это с учетом нынешней инерции роста налогооблагаемой базы? Только через увеличение ставок налогов, собираемых в республиканский бюджет – НДС и КПН», - полагает руководитель Kursiv Research.
Убрать дисбалансы
Директор Центра прикладных исследований «Talap» Аскар Кысыков
констатирует: последние годы проблема бюджетной устойчивости сильно обостряется.
«Та дискуссия, которая ведется сейчас, особенно в части повышения налогов, ставки НДС и других серьезных изменений, обосновывается необходимостью финансирования дефицита бюджета. При этом показываются параметры только одного компонента системы – республиканского бюджета.
Однако в системе есть местный бюджет, Нацфонд, внебюджетные фонды. Это комплексная система госфинансов, и нельзя делать большие реформы, особенно в части налогов, оперируя только одним элементом», - подчеркивает экономист.
Национальная экономика зависит от нефтяного сектора: доля нефти в экспорте составляет 60%. Эти доходы идут в Нацфонд, и у Астаны есть желание убрать бюджетную зависимость от нефтяных доходов.
«Хорошее желание, которое многие годы не подвергается сомнению. Но в текущих условиях данная задача невыполнима, поскольку нефтяной сектор занимает серьезную долю в экономике, оказывает мультипликативный эффект на все секторы, включая бизнес.
В нефтяной экономике мы будем зависеть от нефтяных доходов. Другой вопрос, как мы ими распоряжаемся. А желание правительства полностью отрезать нефтяные доходы похоже на то, что оно само себе стреляет в ногу», - говорит собеседник.
Он напоминает, что на последней встрече с бизнесом президент сказал: Нацфонд - неотъемлемая часть экономики, и не надо бить в колокола из-за использования нефтяных доходов.
«Часть из них через бюджет мы используем на финансирование социальных программ, бюджета развития и так далее. То, что называют нефтяным проклятием, я считаю благом: идет рост добычи. По оценкам, в 2025 году дополнительные доходы от расширения ТШО составят 1,4 трлн тенге.
Рост нефтяных доходов - это не только поступления в Нацфонд. Часть идет в республиканский бюджет как экспортная таможенная пошлина. А примитивный бухгалтерский подход к решению дисбалансов бюджета, который хотят навязать многие эксперты, абсолютно неправильная позиция», - считает экономист.
Важно балансировать консолидированный бюджет, который учитывает республиканский, местные бюджеты и Нацфонд. Задача - сделать всю систему профицитной, акцентирует Аскар Кысыков.
«Заявленную властями цель накопить в кубышке $100 млрд к 2029 году я оцениваю как сомнительную и вряд ли достижимую. Можно и $80-90 млрд. Ничего страшного, если часть денег инвестируем внутри страны на различные направления, в том числе на развитие человеческого капитала, улучшение инфраструктуры», - говорит собеседник канала.
Нам есть, что сокращать
"Необходимы четкие бюджетные правила - какая часть нефтяных доходов может использоваться на финансирование в рамках республиканского бюджета, какая - на местные бюджеты", - продолжает Кысыков.
С последними проведена реформа – им передали больше налоговой базы, ИПН, социальный налог и часть КПН от МСБ. Поступления от крупного бизнеса идут в республиканскую казну.
«В условиях, когда республиканский бюджет не добирает налоги, нужно тщательно изучить местные бюджеты. Нередко на местах остаются деньги, которые тратятся акиматами. Региональные власти получают очень много средств и пытаются их быстро освоить. Думаю, там очень много неэффективных проектов и трат. Соответственно, трансферты должны корректироваться, и регионам нужно давать меньше денег через субвенции», - полагает экономист.

Аскар Кысыков - директор центра прикладных исследований "Talap"
Касательно мнения о росте расходной части бюджета он отмечает, что показатель расходов госбюджета к ВВП стабилен.
«За последние 5 лет он составил 22-24% к ВВП. Когда говорят, что расходы госбюджета сильно выросли, надо иметь в виду, что выросли они в номинальном значении. А с учетом инфляции, падения курса тенге бюджет растет на уровень накопленной инфляции и обесценение тенге.
То же самое касается размеров трансфертов из Нацфонда – если перевести их в доллары, это порядка $10-11 млрд. У них стабильный уровень. Ранее в концепции по управлению Нацфондом был зафиксирован гарантированный трансферт $10 млрд, потом его порог пытались снизить до $8 млрд (безуспешно). Я считаю, что последняя сумма – адекватный объем для поддержания стабильности странового бюджета», - продолжает эксперт.
Он напоминает о двух функциях национальной копилки - сберегательной и стабилизационной. И когда экономика находится в кризисе, можно использовать накопленные резервы для ее финансирования (в том числе социальных нужд).
«Это контрцикличная политика, но она не предполагает роста налоговой нагрузки в период кризиса, которая, наоборот, должна снижаться. В такие периоды тратятся резервы, наращивается дефицит, а когда идет подъем, то налоги повышаются, идет накопление ресурсов. Надо использовать этот подход и в расходах.
Расходная часть, мягко скажем, у нас неэффективна, есть мнения, что в бюджете якобы нечего сокращать. Не согласен - большие резервы все равно есть, в том числе в социальной части.
Есть капитальные затраты; помимо зарплат, есть закупки, - все надо изучать и оптимизировать, как и исследования квазигосструктур для министерств, эффективность которых минимальна, а затраты -колоссальны», - отмечает глава «Talap».
По его мнению, сокращать расходы нужно и по множеству других направлений, особенно по финансированию реального сектора, когда из года в год власти пытаются развить одну и ту же отрасль, вкачивая в нее большие деньги, в том числе через квазигоссектор.
«Бюрократы могут либо нарастить бюджет, либо усилить регулирование отрасли. И когда приходит новый министр, например, сельского хозяйства, и просит еще триллион тенге на развитие приоритетной отрасли, ее эффективность от увеличения бюджета не изменится. Потому что инструменты старые и неработающие.
Если проанализировать объемы субсидий на сельхозку в прошлом году и показатель эффективности этих вложений, мы увидим низкие результаты. Продолжать такую практику нецелесообразно, нужно пересматривать всю систему поддержки этой отрасли. Необходимо разбирать институциональные вещи - экономический оборот земли и другие моменты, и так - по всем отраслям: по медицине, ОСМС, образованию; совершенствовать закупки.
Я уверен - потенциал оптимизации бюджетных расходов, в том числе на местном уровне, очень высокий», - говорит Аскар Кысыков.
Автор: НАЗГУЛЬ АБЖЕКЕНОВА
Источник: https://taj.report/budgetproblem